Помимо растущего недовольства рабочих, весной и в начале лета 1918 г. над Петроградом продолжала висеть угроза германской оккупации. Реальность этой угрозы усугубляло поведение германских войск, которые 3 марта высадились в Ханко на юго-западной оконечности Финляндии и присоединились к белофиннам, с победами продвигавшимся в восточном направлении. Очень скоро их продвижение стало представлять опасность для кораблей русского Балтийского флота в бухте Гельсингфорса и создало новую внешнюю угрозу для Петрограда — с северо-запада.
![/[https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроми,_Фрэнсис_Ньютон_Аллан|Фрэнсис Ньютон Аллан Кроми] (англ. Francis Newton Allan Cromie; 1882—1918).](/wp-content/uploads/2016/03/Francis_Newton_Cromie-214x300.jpg) Особую обеспокоенность по поводу возможного захвата немцами Балтийского флота проявляли британцы. Британскому морскому атташе в Петрограде, капитану Фрэнсису Кроуми, было поручено, помимо эвакуации из Петрограда драгоценных металлов и военного имущества союзников, заняться приготовлениями к затоплению собственной подводной флотилии, курсировавшей в заливе, и сделать всё возможное, чтобы не допустить попадания русского флота в руки противника. В конце января он обсуждал с руководством Центрального комитета Балтийского флота возможность финансирования его британским правительством, что явилось бы гарантией сохранения союзнического контроля над ним1. Мирные переговоры в Брест-Литовске сделали эту инициативу бессмысленной. Во второй половине февраля, когда казалось, что германской оккупации Петрограда не избежать, Кроуми строил планы уничтожения Балтийского флота при содействии его главнокомандующего, адмирала Александра Розвозова2. Однако в марте Розвозов, стоявший за полную автономию флота в боевых операциях3, был отстранён от командования за отказ присягнуть на верность Советской власти. В конечном итоге, флот был спасён от немцев благодаря героизму капитана первого ранга Алексея Щастного, сменившего Розвозова на его посту.
Особую обеспокоенность по поводу возможного захвата немцами Балтийского флота проявляли британцы. Британскому морскому атташе в Петрограде, капитану Фрэнсису Кроуми, было поручено, помимо эвакуации из Петрограда драгоценных металлов и военного имущества союзников, заняться приготовлениями к затоплению собственной подводной флотилии, курсировавшей в заливе, и сделать всё возможное, чтобы не допустить попадания русского флота в руки противника. В конце января он обсуждал с руководством Центрального комитета Балтийского флота возможность финансирования его британским правительством, что явилось бы гарантией сохранения союзнического контроля над ним1. Мирные переговоры в Брест-Литовске сделали эту инициативу бессмысленной. Во второй половине февраля, когда казалось, что германской оккупации Петрограда не избежать, Кроуми строил планы уничтожения Балтийского флота при содействии его главнокомандующего, адмирала Александра Розвозова2. Однако в марте Розвозов, стоявший за полную автономию флота в боевых операциях3, был отстранён от командования за отказ присягнуть на верность Советской власти. В конечном итоге, флот был спасён от немцев благодаря героизму капитана первого ранга Алексея Щастного, сменившего Розвозова на его посту.

 На следующее утро весь Петроград гудел, возбуждённый вестью о беспрецедентных событиях в Бресте. Экстренно собравшиеся по этому поводу центральные комитеты большевиков и левых эсеров одобрили шаг Троцкого
На следующее утро весь Петроград гудел, возбуждённый вестью о беспрецедентных событиях в Бресте. Экстренно собравшиеся по этому поводу центральные комитеты большевиков и левых эсеров одобрили шаг Троцкого![/[https://ru.wikipedia.org/wiki/Декрет_о_мире|Декрет о мире]. 26 октября 1917 г. Скан документа из [https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_центральный_музей_современной_истории_России|музея Революции] в Москве.](/wp-content/uploads/2016/03/Dekret_o_mire-215x300.png) Один из самых первых декретов, принятых Вторым Всероссийским съездом Советов 26 октября, ленинский Декрет о мире, призвал все воюющие страны прекратить военные действия и немедленно начать мирные переговоры. После того как первые мирные инициативы Советского правительства не нашли позитивного отклика у руководства Антанты, Совнарком вступил в сепаратные переговоры о перемирии и мире с Центральными державами. Эти переговоры начались 20 ноября 1917 г. в городе Брест-Литовске, где на территории оккупированной Польши располагалась ставка германского командования, и два дня спустя (22 ноября) между двумя сторонами было достигнуто соглашение о десятидневном перемирии, впоследствии продлённом ещё на 28 дней. Было оговорено, что продление будет осуществляться автоматически, пока одна из сторон не откажется от него, предупредив об этом другую сторону за семь дней. Предполагалось, что за время перемирия стороны согласуют условия постоянного мирного договора.
Один из самых первых декретов, принятых Вторым Всероссийским съездом Советов 26 октября, ленинский Декрет о мире, призвал все воюющие страны прекратить военные действия и немедленно начать мирные переговоры. После того как первые мирные инициативы Советского правительства не нашли позитивного отклика у руководства Антанты, Совнарком вступил в сепаратные переговоры о перемирии и мире с Центральными державами. Эти переговоры начались 20 ноября 1917 г. в городе Брест-Литовске, где на территории оккупированной Польши располагалась ставка германского командования, и два дня спустя (22 ноября) между двумя сторонами было достигнуто соглашение о десятидневном перемирии, впоследствии продлённом ещё на 28 дней. Было оговорено, что продление будет осуществляться автоматически, пока одна из сторон не откажется от него, предупредив об этом другую сторону за семь дней. Предполагалось, что за время перемирия стороны согласуют условия постоянного мирного договора.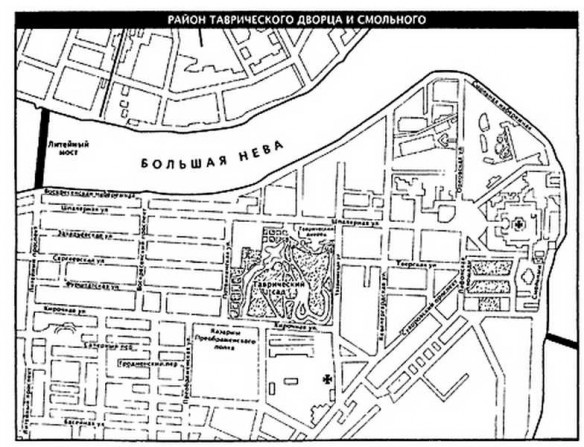
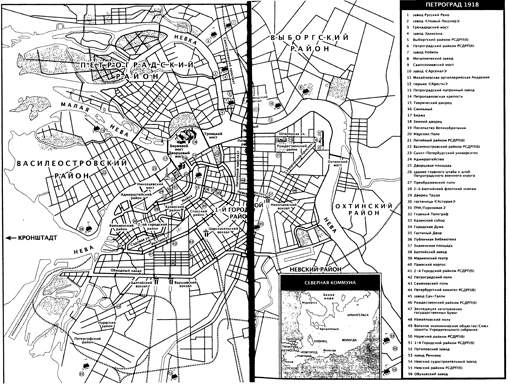
![/[https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабинович,_Александр_Евгеньевич|Рабинович, Александр Евгеньевич]](/wp-content/uploads/2016/03/alexander-rabinowitch-300x300.jpg) Почти двадцать лет прошло с тех пор, как моя книга «Большевики приходят к власти», была впервые издана в Советском Союзе. Поэтому, пожалуй, будет нелишним вновь представиться. Корни моей семьи крепко сидят в России. Мой отец, Евгений Исаакович Рабинович, был учёным мирового уровня, педагогом, редактором и поэтом. Родившийся в 1898 г. в Петербурге, в семье Исаака Моисеевича Рабиновича, юриста, и Зинаиды Моисеевны Вайнлуд, подающей надежды концертирующей пианистки, одной из последних учениц Антона Рубинштейна, он закончил прогрессивное Тенишевское училище и три года изучал химию в Санкт-Петербургском университете, прежде чем в конце лета 1918 г. — за две недели до начала «красного террора» — покинуть Россию и присоединиться к эмиграции. Таким образом, он был очевидцем и, в некоторых случаях, участником важнейших политических событий, описанных в этой книге. (Много лет спустя, когда он уже был известным учёным, чьи достижения в науке и общественно-научной деятельности получили мировое признание, одним из предметов его особой гордости оставалась изобретённая им система подсчёта голосов на выборах в Учредительное собрание, которая позволила ему раньше других отрапортовать о результатах выборов по своему избирательному округу Петрограда.) Моя мать, Анна Дмитриевна Майерсон, уроженка Киева, была ведущей актрисой русской театральной труппы, выступавшей на сценах Европы в 1932 г., когда они с отцом поженились.
Почти двадцать лет прошло с тех пор, как моя книга «Большевики приходят к власти», была впервые издана в Советском Союзе. Поэтому, пожалуй, будет нелишним вновь представиться. Корни моей семьи крепко сидят в России. Мой отец, Евгений Исаакович Рабинович, был учёным мирового уровня, педагогом, редактором и поэтом. Родившийся в 1898 г. в Петербурге, в семье Исаака Моисеевича Рабиновича, юриста, и Зинаиды Моисеевны Вайнлуд, подающей надежды концертирующей пианистки, одной из последних учениц Антона Рубинштейна, он закончил прогрессивное Тенишевское училище и три года изучал химию в Санкт-Петербургском университете, прежде чем в конце лета 1918 г. — за две недели до начала «красного террора» — покинуть Россию и присоединиться к эмиграции. Таким образом, он был очевидцем и, в некоторых случаях, участником важнейших политических событий, описанных в этой книге. (Много лет спустя, когда он уже был известным учёным, чьи достижения в науке и общественно-научной деятельности получили мировое признание, одним из предметов его особой гордости оставалась изобретённая им система подсчёта голосов на выборах в Учредительное собрание, которая позволила ему раньше других отрапортовать о результатах выборов по своему избирательному округу Петрограда.) Моя мать, Анна Дмитриевна Майерсон, уроженка Киева, была ведущей актрисой русской театральной труппы, выступавшей на сценах Европы в 1932 г., когда они с отцом поженились.